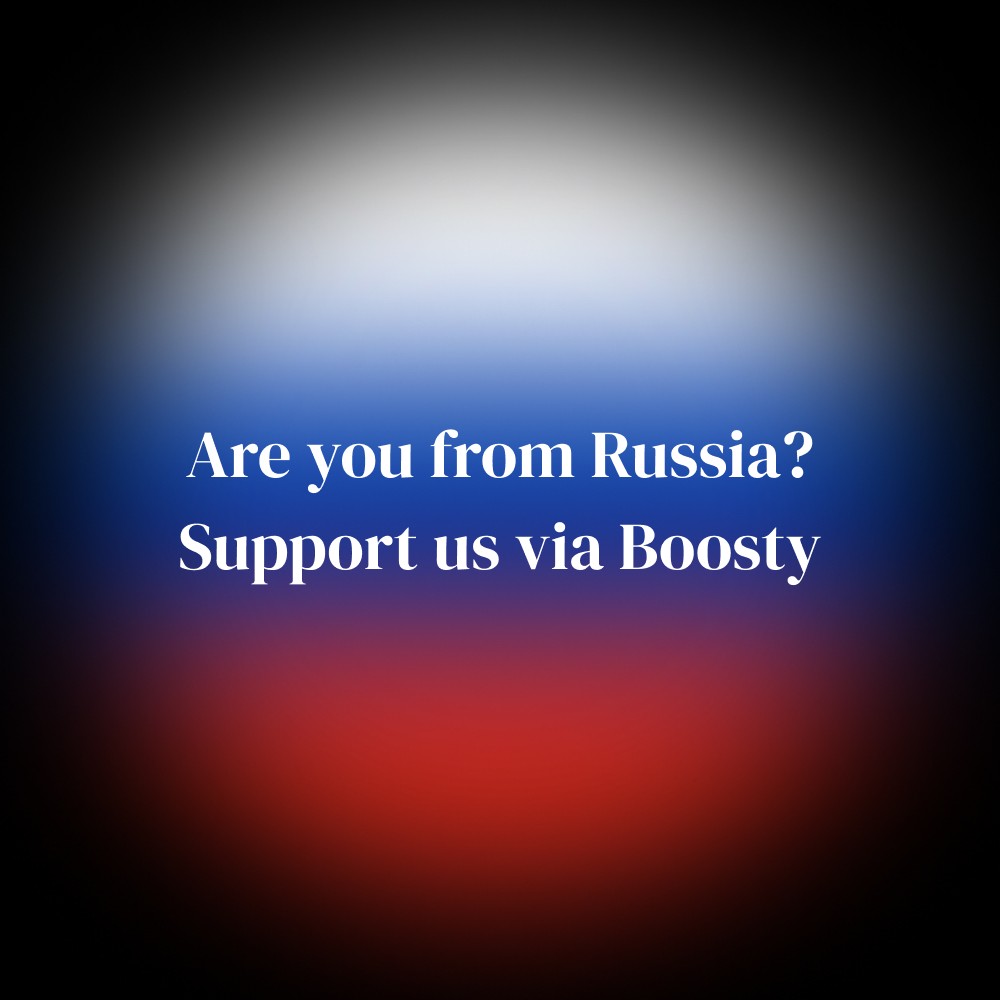Ksenia Larina: Good evening, dear friends, dear subscribers, dear viewers of our channel! This is The Insider Live channel. My name is Ksenia Larina. And as usual, every week we meet in such a guest format with people whose opinion we think is important. I hope these people are also important and interesting to you. Today we have a real heroine here in our virtual studio. This is the artist Katya Margolis. Katya, hello!
Ekaterina Margolis: Ksenia, good morning!
Ksenia Larina: Well, "heroine"… Let me put it in quotation marks!
Ekaterina Margolis: Yes, please.
Ksenia Larina: Because I understood from your reaction that you are not very pleased to hear this. But really, if we talk about these quotes, then today Ekaterina is rather considered such a heroine or anti-heroine of social networks and Facebook, since there are a lot of people offended by Katya, who suddenly considers it possible to be one of the few to speak the absolute truth of today, the truth, as she estimates today's life, including my own, including the life of this world, which split into before and after: before February 24, 2022 and after. This “after” Katya lives the way she feels and understands.
Katya, let me ask you this first question – not about these endless fights on Facebook, and that you are endlessly in these arrows from all sides, but try to answer the question of what Ekaterina Margolis does besides writing her huge texts on Facebook ? Does for the victory of Ukraine. In order to make life easier for Ukrainians, Ukrainian refugees and in order to bring Ukraine's victory over Russia closer.
Ekaterina Margolis: It’s somehow very embarrassing for me to answer this, because all the people around me are doing this, all people of good will, all people with a sense and understanding of where good and where evil, where is white and where is black. And, first of all, I want to say right away that for Ukraine this “before and after” did not begin at all on February 24, but of course, in 2014. What many of us forget, do not realize, do not fully understand or understand only now in full.
So it seems to me that yes, we all know that we face disaster on a daily basis, even if we are not (and most of us are not) on the front lines. We are in the rear, but this war affects all of us. This is a war for values. This is a war of civilization against barbarism – against Russian barbarism. And all of us, regardless of where we live, who associate ourselves with Russia, language, culture, origin, it seems to me, are doubly responsible.
There are a lot of Europeans around me who, like me, also accepted refugees, translated, helped, supported, taught Ukrainian children, teenagers, students for free, help with various life conflicts. Because a huge number of people were simply thrown out of their peaceful life, with a terribly traumatic past. They saw that which in general is not given to a living person and should not be given to see. And all these people find themselves in a completely new reality for themselves, not by choice, not because they wanted to move, but because bombs began to be thrown at them, rockets began to fly. Therefore, in general, to initially help people fleeing the war is, it seems to me, the minimum minimorum. But also think about what happened, why it happened.
And, of course, for me, an absolutely fundamental point is assistance to the armed forces of Ukraine. Again, this help can be the mite of a widow, according to the gospel parable, it can be a little help, it can be a big help – everyone does what he can, as much as he can. But it seems to me that this is very important, because the only real force that is now opposing this evil is those people who are fighting, who are dying. This is the color of the Ukrainian nation, these are people who are really ready and lay down their lives for freedom. And freedom not only for oneself, not only for one's loved ones, not only for one's country, but in general, as I feel it, for civilization, for our future… These are all big words, but they have taken on an absolutely concrete meaning now.
Ksenia Larina: I know that you communicate a lot with Ukrainians both in real life, as they say, in real life, and through messaging and letters on social networks. I want to ask you this question … How to formulate it correctly? Because if I ask what Ukrainians expect from Russians – the so-called “good Russians”, I don’t even know what to answer here. But let me just ask: how do you think, how do you feel? If they expect anything from the Russians at all.
Ekaterina Margolis: All people are different. It seems to me that the main lesson that all Russians with their imperial past and with their imperial firmware should learn is not to speak for another, not to deprive their interlocutors of subjectivity. Everyone who writes speaks for himself or for some of his community. I cannot speak for Ukraine. I can only share the experience that I have directly. My experience is the same as any other.
It seems to me that, of course, awareness of responsibility is very important. Do not say: “I have nothing to do with it,” we have nothing to do with it. This is how I feel. To forgive what has been done – murdered people, torture, rape, this whole nightmare that goes on every day – this cannot be forgiven. It's impossible to forgive. These are lost lives, these are funnels for many decades.
What can be done? You can do what you have to do and expect nothing in return. What is expected of us? Solidarity. Solidarity expressed in words, including direct, simple, repetitive words. Unaccustomed to war, denormalization of it, even if we are very far away. If missiles arrived yesterday and missiles arrived today, these are different missiles. Every time these people should go out into the corridor, hear the alarm. Cats get under the sofa, kids get under the stairs… It happens all the time. If it happened yesterday, it does not mean that it is normal that it is happening today.
It seems to me that you don’t get used to it, don’t normalize it, feel your responsibility and do what is in your power. If you can't stop the missiles (and none of us can do that), but minimal reparations (moral and material) and just solidarity, sympathy and an attempt to understand … It's still impossible to understand how a person feels who was attacked by a neighboring country that kills daily your loved ones, your compatriots. But at least not to pretend that this has nothing to do with you and us. It seems to me that this is, again, the minimum: not to defend yourself, to accept this responsibility.
Ksenia Larina: One of the most frequently used terms now is empathy; either its presence or its absence. How do you define it for yourself? What is this feeling for you and how did you discover it in yourself? Only now, in 2014, or in principle have you always had it, and have you always felt it, have you never given up on it?
Ekaterina Margolis: Empathy, in fact, is a little turning on the imagination. Any person who … Well, maybe artists or some creative people more … Here you are a theatrical person, I am a visual-verbal person – we all live anyway … Our inner life is huge, no less real, than external. It seems to me that it is so easy to at least try to put yourself in the place of another, to present yourself to others. It didn't work out that way. It does not matter: when you are taking care of sick children (I have been doing this for many years) or when your country is attacking a neighboring one, it seems to me that it is not difficult to make a small effort just by imagination and imagine that you, your loved ones, could be in this place. That these are not some special people, other people are “victims” (in quotation marks). They are not victims, they are the same people – they get up in the morning, drink coffee … Here they write to me in the morning: “We survived the shelling. Now I’ll drink coffee and run to work.” They have the same life as all of us. Only this life was broken, broken and maimed daily.
So I don't think it's that hard at all. I don’t know, these are small children – they play role-playing games, introduce each other to others: you are the Wolf, I am Little Red Riding Hood, or vice versa. This is what it means to grow into someone else. Of course, no one can get out of himself, but trying to understand, to see what the other feels…
Ksenia Larina: “Well, dear Russians will tell you, why, Ekaterina, don’t you have such a feeling of empathy for us? Why don’t you want to experience and feel what we are experiencing and feeling here, being in the role of hostages?” The most fashionable role, which is actively exploited today in these endless clarifications between various social groups. Here is empathy towards those who remained – if it is, then to whom? And if it is not, then also – to whom?
Ekaterina Margolis: Of course, there is empathy for any person who feels bad. This goes without saying. It’s just that, unfortunately, now our compatriots — even those who are against the war, even those who understand everything — they have remained, they are in a very difficult situation, but still … This habit of pitying oneself, raising one’s own problems in the first place, to put yourself in the center – this is the optics of the center of the universe … It is partly really historical, imperial, partly it is the consequences of trauma in many generations, such a traumatic drawing of attention to oneself. Any psychologist will tell you this.
And it seems to me that it is simply unacceptable not to understand priorities. The victims are not Russians now. Yes, they are also victims of their regime, their history, their past, their choice, their compromises. Everyone can look into themselves and determine for themselves. I do not live in Russia, I make some of my choices, right and wrong, like any of us … But it seems to me that it is wrong to defend ourselves now. It is wrong to put yourself in the center, it is wrong to put a comma between yourself and the Ukrainians.
We just have some kind of language formulas – I don’t know: “we were all killed in Bucha”, “we have all been bombed since February 24” … Yes, they didn’t kill us in Bucha and haven’t bombed us since February 24! Here we sit quietly and talk. All these metaphors, “we are under fire”, all these military metaphors – they are completely out of place against the background and in the context of people who literally experience this. It seems to me that if you stop feeling sorry for yourself, then some new horizons will open up, including for yourself.
Ksenia Larina: What horizons can open there if people are imprisoned for any manifestation of disagreement or any manifestation of some kind of internal and external resistance to this horror that is happening today? I, too, can hardly answer the question – or rather, not even a question, but some kind of cry into the void, into the sky: “What can we do?” I remember a performance by the student theater of Moscow State University, which, in my opinion, thundered in the 1960s, which was called “What Can I Do Alone?”. When it all starts with one person who goes on stage and says: “What can I do alone?” Then the second one joins him: “What can I do alone?” And then it all turns into a chorus of people who say in chorus: “What can I do alone?”
Ekaterina Margolis: Of course, this has reached extreme levels. This is a fascist state, we understand all this very well. But no one canceled inner freedom, inner choice, inner compass. Here Bukovsky writes beautifully in his memoirs – a man who served time, who went through such a school … In many dissident memoirs, but especially in Bukovsky (“And the wind returns …”): when he was interrogated, he imagined that he was building his castle, – he overlooked the tower of this castle and stood over his interrogator. This is a man of great inner strength and great inner freedom.
But we also see these examples now, they exist. There are people who fall into this Moloch not by choice, but because their jaws have been chewed. Because, I don't know, baked poppyseed donuts wrong or something, some absurd things. These jaws chew on everyone. But there are those (and we know these people) who choose freedom in non-freedom. This is their struggle for freedom – internal, their own. They always say: prison opens from the outside, freedom from the inside. I understand that it's easy to say when you're free. But such examples were, are and will be.
Ksenia Larina: Of course, I can't help but recall the current story with Evgenia Berkovich and Svetlana Petriychuk. I say this – a terrible story – no, this is the beginning of a new "theatrical trial" on people who think wrong, feel wrong and speak wrong. I saw how many people quote a letter from Zhenya Berkovich from prison, from SIZO No. 6 in Moscow, where she is now serving this two-month preventive measure. I would like to hope that everything will be limited to two months, and maybe even released on appeal – there are miracles in the world. There she writes, among other things, about you, answering her comrades and friends who send letters to her in the pre-trial detention center, that she in no way considers Ekaterina Margolis to blame in any way, on whom these dogs were also hanged, accusing that Ekaterina wrote some kind of post, convicted Zhenya Berkovich of something and attracted, like, the attention of law enforcement agencies to this figure. How in general, in what fantasies can such an accusation be born, tell me?
Ekaterina Margolis: It's hard for me to grasp the logic of lack of freedom. I believe that as long as there is a public space, as long as the Internet is not closed, we are all public people. We discuss some things publicly, we have fundamental differences, we have criticism. It is very important that this criticism does not become personal, that it does not turn into insults and everything else.
I am very grateful to Zhenya for this letter. I, in turn, wrote three days ago, too. I think that I am, I beg your pardon, even if in no way, in any way, I do not consider this logic reasonable, and the accusations are absolutely absurd, but if this is a person who is much worse than me, he feels that way, I am ready to accept this optics. Just as I am ready to accept if one of the Ukrainian people, of the Ukrainians that I meet, suddenly starts cursing me because…
Ksenia Larina: Does it happen?
Ekaterina Margolis: It happens, of course. Well, how? This is fine. For what he's been through. What am I, will I defend myself, explain how good I am, how good we are all here and against the war? This seems completely wrong to me. It seems to me that we need to be ready from now and, I think, until the end of our days, for sure, to be ready to accept these accusations, not to object to them and understand that if we are not specifically responsible for this, it’s all the same for what happened there is a share of our responsibility. And now it can result in such very unfair, very offensive, very harsh forms. But still, the truth is on the side of the victim.
Ksenia Larina: Here it is probably worth stopping, again, on this case of Zhenya Berkovich and saying that, of course (I hope Katya agrees with me), she is being persecuted for her texts, for her poems. Not for some old play that talks about recruited Russian brides for Syrian militants. It's all pure camouflage. What is the real power of words? A very important indicator, it seems to me, is that Zhenya Berkovich is not a political figure and a political oppositionist. And in general, I don’t remember the pickets either. Maybe, of course, she participated in the rallies as a person who is not indifferent.
Ekaterina Margolis: She was detained.
Ksenia Larina: Yes, it is. But now, during the war, the power of words, and the artistic word at that … She began to write poems of tremendous power, very accurate. In fact, I want to tell you, Katya, that the poems she writes are very consonant with the posts that you write – in your understanding of this feeling of guilt, and a sense of responsibility, and a feeling of horror, a chilling nightmare, and this attempt , on the one hand, to isolate themselves from crimes, and on the other hand, to dive into these crimes and not pretend that they do not exist, not turn away from this war. It seems to me that the main thing here is guilt. Does this mean that all the same they are still (“they”, I mean about them) afraid of some kind of influence on the collective unconscious, on public opinion? How else to explain such persecution for words?
Ekaterina Margolis: We are trying to find some rational explanations for this car, which is already really reproducing itself, which is moving and cannot reverse. We are trying to find out why – someone is trying to explain that there is no extremism in this play … All this, it seems to me, is absolutely meaningless in the machine of arbitrariness. Yes, of course, exactly the same people do not tolerate any manifestation of freedom, do not tolerate any individuality. They do not tolerate any truth, by and large, because the truth, any truth is a denunciation of themselves, first of all.
Therefore, it is completely logical, completely natural – both the growth of repressions and everything else. This is such a falling elevator that cannot stop at intermediate floors. It will fall to the end of the shaft, and none of us knows the depth of this shaft. And how long it will last, none of us knows. The only thing we know from history is that elevators with cables already torn off cannot stop in the middle.
Ksenia Larina: That's right. Кстати, я даже вспоминаю, была какая-то такая то ли карикатура, то ли рисунок, где в этом сорвавшемся бешеном лифте сидит вся эта шайка-лейка во главе с Владимиром Путиным, и они лихорадочно жмут на кнопки, не понимая, что трос уже оборван. Да, это так. Но с другой стороны, если такой образ мы принимаем для тех, кто находится внутри этого лифта, это же не только они, но и все люди — и доброй, и недоброй воли, и те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает, и кто за, и кто против, те, кто на свободе, и те, кто в тюрьме… Они все в этом лифте, внутри этой страны. Получается что — смириться, ждать конца? Какую здесь модель поведения возможно выбрать, если действительно, опять же, попробовать поставить себя на это место, оказаться там, внутри?
Екатерина Марголис: Конечно, опять-таки, трудно… Не трудно — нельзя. Неправильно, аморально давать советы людям в несвободе, которые оказались так или иначе в таких обстоятельствах. Но мне кажется, что, во-первых, прежде всего, это понимание, что этот лифт падает. Это ужасно, что он падает вместе с тобой, но этот лифт по дороге еще и калечит весь дом. Весь дом уже в пламени, всё горит — не знаю, обстрелы. И всё равно одно никак не отменяет другого.
Поэтому, как это пережить… Как можно давать какие-то советы… Представляете, как можно пережить катастрофу? Ну, постараться остаться верным себе, своим ценностям. Это ежедневный выбор. Вообще свобода, внутренняя свобода — в любых обстоятельствах это ежедневное усилие. Будь ты в свободном безопасном мире или даже в каких-то крайних обстоятельствах, это всё равно усилие. Пусть разного порядка, но это внутреннее усилие: что ты должен делать сейчас, сегодня, завтра утром, через час, через два.
Мы все всё равно люди свободной воли, не винтики. Свободную волю у человека никто не отнимал и не может отнять. Может быть насилие, можно отнять жизнь, можно много к чему принудить пыткой — такие обстоятельства мы, естественно, не обсуждаем. Но в общем это остается. Естественно, у каждого человека есть внутренняя жизнь, свобода воли и всё остальное, чтобы на этот вопрос себе отвечать утром, вставая и глядя в зеркало.
Ксения Ларина: А как вы себя вообще идентифицируете? Вы кто — вы русская художница, живущая в Венеции, или кто?
Екатерина Марголис: Конечно, да. Это мое детство, мои корни, мое во многих поколениях. Я эту преемственность ощущаю и никогда от нее не отказывалась. Да, я живу в Италии, да, в Венеции мой дом. Да, дома мы говорим на трех разных языках, у нас три домашних языка: русский, английский и итальянский. Если для моих детей это родные языки, то для меня это всё равно языки вторые-третьи. Вот примерно так же.
И когда возникает ситуация, когда мы оказываемся перед лицом такого исторического вызова, невозможно спрятаться за какой-то другой идентичностью или сказать: «Вы знаете, я здесь давным-давно живу в Италии». Я действительно давным-давно живу в Италии. Я действительно почти 20 лет живу в Италии. Но какие-то связи не теряю — культурные, языковые и всё остальное. Мне не кажется, что ощущение причастности, ответственности связано исключительно с цветом паспорта или геолокацией. Мне кажется, дело намного глубже.
Ксения Ларина: А как вы называете Россию? «Наша страна», «моя родина»? Как вы называете этих самых российских военнослужащих? «Наши солдаты», «наша армия»? «Наш президент» — может быть, и так вы говорите? Как вы их называете? Вот это мне очень интересно.
Екатерина Марголис: Я говорю «Россия». Сейчас стала часто говорить «РФ» и «Российская Федерация», чтобы максимально дистанцировать этот фашистский режим от того, наверное, что я привыкла ощущать как свои корни. Я говорю «Россия». Естественно, я не говорю «наш президент», я не говорю «наши мальчики».
И более того, я считаю вообще такого рода лингвистические экзерсисы вербальным соучастием. Потому что язык определяет картину мира. То, как мы называем вещи, очень часто, с одной стороны, говорит о том, как мы их видим, а с другой стороны, определяет то, как мы видим. И как только мы начинаем идентифицировать себя с людьми, которые пришли убивать других людей к ним домой, мы становимся вербальными соучастниками этой войны. Как только мы начинаем вместо «война» или «агрессия России в Украине» говорить «СВО» или «специальная военная операция», мы присоединяемся к агрессору в его попытке замаскировать ужас и преступность того, что происходит.
Вот эта любовь к аббревиатурам — я как раз говорила: она советская такая. Это убирать гласные и скапливать согласные. В метафорическом смысле тоже: чтобы было поменьше гласных голосов и побольше согласных. И это затемняет смысл происходящего.
Поэтому, конечно, это не «наш президент», это не «наши солдаты» — это солдаты страны-агрессора, которые, к сожалению, являются моими бывшими соотечественниками. Они родились и выросли в той же стране, что я.
Ксения Ларина: Как вы относитесь к эвфемизмам? Что я имею в виду: орки, Оркостан, рашисты, Орда, русня… Ну, русня — собственно, это уже другое, что называется. А вот то, что я до этого перечислила… Еще давайте вспомним, что термин «рашизм» уже юридически закреплен, признан Верховной Радой. Как вы относитесь к этим определениям?
Екатерина Марголис: Это не вопрос моего отношения. Я с самого начала вторжения читаю всё время в основном украинские новости. То есть мировые. Но я читаю много украинских каналов. Это совершенно часто употребляемые термины. Я никак к ним не отношусь, я воспринимаю их как данность.
Ксения Ларина: Я почему спрашиваю, объясню. Я, честно говоря, долгое время их вообще не принимала, и не уверена, что до сих пор не отказалась от этого своего неприятия. Почему, объясню. Потому что, на мой взгляд, это всё-таки размывает ответственность конкретной структуры, конкретных людей, представителей конкретных погон. Я-то их называю «русские»: русская армия, русские солдаты.
Екатерина Марголис: Россияне.
Ксения Ларина: Россияне. Хотя «русскими» всегда называли во всем мире всех жителей Советского Союза — всех национальностей, представителей всех республик.
Екатерина Марголис: Это вопрос языка. В русском языке есть различение: «россияне» и «русские». В английском это Russians, в итальянском это Russi, во французском это les Russes. Нет такого семантического разделения. У нас, в нашем языке оно дано нам. Давайте пользоваться им. Оно нам дано: это не русские, это россияне. Это не этническая общность, это люди Российской Федерации. Это могут быть…
Ксения Ларина: Оккупанты.
Екатерина Марголис: Да, для Украины это оккупанты. Поэтому я поняла, что вы говорите, почему вы не принимаете. Но мы же знаем, у нас не одноканальное восприятие. Мы же знаем прекрасно, что идут расследования с самого начала, что эти преступления документируются, собираются, что мы поименно вспомним всех. Что уже вышли расследования вплоть до минуты. Мы видели New York Times и разные расследования, перехваты телефонных разговоров, расследования того, что произошло в Буче, и всех преступлений, вплоть до минут, имен и так далее. И всё это работа прокуратуры, все это собирается, документируется, все останки идентифицируются. Идет огромная работа всё время, параллельно с этой войной.
И это новое, потому что мы, ко всему прочему, можем следить за этой работой тоже. Не потом, как во Второй мировой, расследовать преступления: «Ах, мы не знали». Мы всё знали, сейчас мы всё знаем. Интернет есть, VPN работает. Чтобы не знать, нужно действительно… Как я много раз цитировала Даниила Гранина, который приехал с делегацией писателей после войны в Бухенвальд, по-моему. Вышел попить, там стояла женщина, продавала воду — местная. Он ее спросил: «Как же так? Неужели вы не знали, что происходило за этими стенами?» Потому что дымили трубы. Она говорит: «Мы смотрели в другую сторону». И вот он очень четко говорит: «Чтобы смотреть в другую сторону, надо очень хорошо знать, в какую сторону не смотреть, чтобы хотя бы случайно туда не посмотреть».
Поэтому не знать — это выбор сейчас. Мы знаем, и знаем уже многие имена. Мы знаем, кто отправлял унитазы, кто мародерствовал, кто убивал. Мы знаем, кто расстреливал (вот сейчас было расследование) машины на дорогах — просто забавы ради — с мирными людьми, детьми и женщинами. Мы уже знаем эти имена. Так что ничего не размывается. Уже даже, помните, был первый процесс военнослужащего, который стрелял, чтобы от него отстали, как он выразился. Так что это всё происходит. Я уверена, что поименной ответственности это никак не отменяет.
Ксения Ларина: В нашей истории это тоже было — я имею в виду, в истории нашего Отечества: мы не знали, как людей пытают, мучают, расстреливают. Массовые расстрелы в той же Катыни — мы тоже не знали. И в этом «мы не знали» весь XX век, если мы говорим про Россию, про Советский Союз.
Вот мой вопрос к вам, Катя. Я всё время про это говорю и стараюсь тоже на эту тему выйти с моими собеседниками — что это ХХ век вернулся. За то, что мы тогда не знали, сейчас мы опять много чего про себя узнаем. Я обобщаю немножко: «мы» как российское общество — в конце концов, я себя от него не отделяю. Как вам кажется, насколько эти две вещи, два временных пространства связаны: и сегодняшняя война, и ХХ век — в нашей памяти?
Екатерина Марголис: Напрямую. ХХ век никогда не кончался хотя бы потому, что победители фашизма, союзники — это был Сталин. Я много раз про это говорила. Это никогда не прекращалось: ГУЛАГ не переставал работать во время войны, Колыму никто не отменял. Всё это происходило параллельно. Просто вот эта одна победа позволила прикрыть и для себя, и для всего мира эти идущие преступления против человечества, которые никогда не были на уровне нации отрефлексированы.
Поэтому, собственно говоря, так опасен был «Мемориал». Недаром его так активно прикрывали. Вроде маленькая организация — казалось бы, какую опасность она представляет для такого монстра, как нынешний режим? Конечно, это опасность правды, опасность преемственности памяти, опасность возвращения имен… Вот эта ежегодная акция, когда просто произнесение вслух имени возвращает человека, которого расстреляли, закопали, выкинули в овраг… Из небытия не вернет живого человека, но вернет его имя и звучание имени.
Помните, у римлян было damnatio memoriae — когда преступников приговаривали к забвению, стирали их имена отовсюду и так далее? Это была отдельная кара. Но вот здесь этому «проклятию памяти» была подвержена, в общем, значительная часть страны. Порвана преемственность, связи, а соответственно, ощущение ответственности, а соответственно, ощущение общества.
Много можно про это говорить. И конечно, нынешняя война — это, во-первых, прямое следствие Второй мировой, которая была подана нам как Великая Отечественная и преподана нам как Великая Отечественная, не как часть, а как отдельная такая героическая война. Это было недаром, потому что не нужно забывать, что Советский Союз начал эту войну на стороне Гитлера с пактом Молотова — Риббентропа и так далее. И, собственно, когда это все перевернулось 22 июня, нужно было как-то обозначить, провести эту черту, когда СССР уже не был союзником Гитлера, а был противником Гитлера.
Но на самом деле мы знаем историю Второй мировой. И то, что это было замазано — мне кажется, это всё, конечно, и ощущение себя жертвами, винтиками, бесправными привело к этой войне и еще привело к реакции на эту войну. Даже если многие люди не поддерживают, это не такое острое неприятие, которое делает это невозможным.
Здесь следствия просто прямые. ХХ век не кончился. Эта война — полный анахронизм со всех точек зрения. И от этого это еще ужаснее, потому что это идет вразрез с развитием цивилизации вообще.
Ксения Ларина: Что эта война вообще открыла в русском народе? Ой, ужасное я говорю… В России. То, что мы раньше не знали или, может быть, не хотели знать, не хотели замечать? Потому что когда мы говорим про то, что сейчас время ясности, оно время ясности не только по отношению к тому, что произошло (мое личное отношение к тому, что произошло), но и время ясности, когда ты вдруг понимаешь, что ты не замечал, что всё, что самое страшное сегодня обнажилось, эти бездны — они и раньше существовали, просто мы не придавали им значения. Согласны ли вы со мной?
Екатерина Марголис: Конечно, полностью согласна. И для всех нас, мне кажется, кто про это думает и кто ощущает к этому причастность, это огромное открытие, это огромная деконструкция собственной идентичности — понимание в себе таких вещей, которых ты вообще близко не мог предположить. Это действительно прошито через всю нашу историю, кожу, ткань нашей культуры — имперство, которое… Даже будучи убежденными имперцами, мы против, но мы не понимаем! Мы столько всего не понимаем! Мы транслируем, не понимая, что мы транслируем, говорим бестактности (даже на уровне, опять-таки, слов), не понимая, что мы говорим бестактности, не слыша и не видя другого рядом.
Все эти внутренние иерархии и вообще уровень агрессии, уровень насилия, допустимость агрессии, вербальной агрессии, того, что вообще может быть допустимо, и многое-многое другое. К сожалению, сейчас открылось, повторю, не в «них» каких-то — это не они, это мы. Не бывает какого-то третьего лица: какие-то «они» убивают каких-то «их». Если мы ощущаем причастность ко всему, что мы любили, ценили и по-прежнему хотим сохранить в нас как в преемниках этой культуры, этого языка, мы обязаны принять, что любишь кататься — люби и саночки возить. Это тоже мы. Это абсолютное зло — это тоже мы. Может быть, в какой-то микроскопической степени. Естественно, мы против, мы не будем никогда в этом соучаствовать, у нас есть воля отказаться. Но, может быть, каким-то случайным словом или непониманием того, как ты ранишь собеседника или просто как бестактно ты себя ведешь, ты каким-то образом тоже в микроскопической степени соучастник.
Мне кажется, это очень важно сейчас. Говоря про свою литературу, про свою культуру, даже эта самокритика должна исходить от нас, она не должна приходить извне, в моем понимании. Я писала про это. Don't blame Dostoevsky, blame ourselves у меня была статья. Мы не только не должны бросаться защищать свое, себя на любых фестивалях, на любых дискуссиях — мы должны первыми сейчас, на фоне этого ужаса, критически посмотреть на его корни, которые уходят очень глубоко.
Ксения Ларина: Кстати, тут вспомнили про фестиваль — тоже сейчасняя, что называется, история с Линор Горалик, у которой возникла конфликтная ситуация с украинскими участницами фестиваля в Тарту, насколько я понимаю, и организаторы приняли решение отменить запланированные лекции Линор.
Но надо отдать ей должное: она, мне кажется, в этой ситуации повела себя идеально. Вот как раз тот самый человек, который отдает отчет в уместности или неуместности каких-то своих обид, выражений, самозащит. Она не стала вступать в эту дискуссию, не стала длить этот конфликт, а приняла это как данность. Но при этом я прекрасно понимаю, что ей, наверное, это больно. Потому что уж ее упрекнуть в каком-то двурушничестве, что называется, или малодушии по отношению к тому, что происходит сегодня, к этой войне — уж точно не ее.
Это вот частный случай. Но я вам хочу сказать одну вещь. Я стала смотреть, что это за такой фестиваль. Слушайте, на самом-то деле — я сейчас вам вот такой вопрос задам, — если бы директором была я, я бы вообще этот фестиваль не проводила в том виде, в котором он сейчас проходит. Потому что там есть некая такая русская программа. Там есть фестиваль славянской культуры. Они вообще там живут своей мирной русской жизнью — русские эстонцы, как я понимаю. У них Центр славянской культуры, какие-то пестики-тычинки-цветочки, поэтические вечера, встречи, «С Рождеством Христовым!», «С Пасхой!»…
Я всё это пролистала, и я понимаю, что эти оазисы, эта иллюзия нормальности — она присуща не только гражданам России внутри России, но и огромному количеству, миллионам русских людей, которые разбросаны по всему миру, которые давно живут так. И это не их война. Они, опять же, тоже не хотят ее видеть. Как это получилось? Они живут на территории европейских стран, но эту войну не видят.
Екатерина Марголис: Слушайте, мы прекрасно понимаем, что определяет не территория, что ментальная карта устроена по-другому. Где ты находишься, где твое тело находится — этого глубоко мало. Если ты живешь в Европе, ты должен быть частью европейских ценностей, этого общества… Общаться, преподавать. Не важно, ты преподаешь студентам, как я, или что-то еще делаешь, ты всё равно часть этого общества со своей идентичностью, со своим происхождением. Вот вы меня спрашивали: «Вы русская художница, живущая в Венеции?» Я живу здесь, да — я часть этого общества.
И мне кажется, конечно, в этой ситуации с Линор понятно, что Линор — человек, который прекрасно, много, именно не на словах, а на деле поддерживает Украину. И издание этого сборника ROAR, где я тоже печаталась, совершенно не единственный пример. Она очень много что делает. И как у человека, который понимает масштабы, естественно, это не вызывает у нее никаких — в чувства чужие мы лезть не будем — никаких вопросов и никакого даже, я думаю, удивления о причинах. Это совершенно нормально. Абсолютно понятно, что приоритет вообще сейчас только у украинцев. Даже помимо войны. Работа по деколонизации не была проведена. Никакие самые антивоенные российские голоса не должны сейчас забивать голоса, говорящие от первого лица Украины.
Это, мне кажется, во-первых, очевидно. Этого могут не понимать и не понимают очень часто многие европейские организаторы, исследователи просто в силу того, что им кажется, что если сейчас на одной площадке все встретятся, то это будет такая демонстрация доброй воли, мира и еще чего-то, а не оскорбления, девальвации ценностей, за которые сражается Украина, и цены, которая платится за эти ценности.
А что русские люди продолжают жить, где бы они ни жили, так, что они ни за что не отвечают и им своя рубаха ближе к телу, — это тоже последствия всё той же безответственности, того же инфантилизма. Это, в общем, та же самая черта, но в другом воплощении, что и вот этот солдатик, который застрелил человека на велосипеде, чтобы от него отстали. Его «просто достали», он сказал. От него отстали. У него не было злобы. Я не знаю, что это было. Для меня это было огромное впечатление.
«Достали, отстали», — это двоемыслие. «Начальство сказало — я сделаю, чтобы отвязалось, и буду жить свою жизнь, чтобы меня не трогали. Отстаньте с этой войной, отстаньте с этой ответственностью. Это вот там Путин бомбит». Каким образом один Путин умудряется одновременно бомбить, насиловать, обстреливать и убивать в таких количествах — это, конечно, загадка. Ясно, что это делает не Путин. Но удобнее себя от этого полностью отгородить и продолжать жить по привычке, соглашаясь на какие-то мелкие компромиссы с собой и с окружающим.
Вот Ханна Арендт говорила, что люди, выбравшие меньшее зло, очень быстро забывают вообще, что они выбрали зло. Им кажется, что вообще всё в порядке. Это очень точное замечание. Привычка мыслить какими-то штампами… Людей проще путем привычки и рутины заставить делать самые дикие вещи, чем заставить отступить на шаг, посмотреть на это и подумать по-новому, взглянуть новыми глазами. Опять-таки, это требует индивидуального усилия.
Ксения Ларина: Мы весь этот год, конечно же, ищем какие-то опоры в аналогичных историях, в аналогичных случаях с другими людьми, с другими нациями. И конечно, даже в нашем с вами разговоре уже не раз упомянули немцев, Германию и их способы и возможности излечения, исцеления от этого нацизма, от гитлеризма, или от рашизма, как сейчас мы говорим.
Но там всё-таки есть важнейшая вещь. Там Германия всё-таки была поражена во всех смыслах, была повержена во всех смыслах, и ее лечили всем миром, что называется. И это произошло… Я тоже не устаю повторять, что это не 8-го мая 1945 года очнулась нация и сказала: «Ой, что же мы натворили?!» Это годы и десятилетия. Как здесь вы видите? Вот здесь, что называется, наши пути расходятся: никто эту Россию лечить не будет — никакие американцы, никакие европейцы.
Екатерина Марголис: Германия была поделена на сектора, были победители — это было дополнительным фактором. Сейчас мы вчитываемся, что кто-то именно поэтому не принимал денацификацию — потому что она была как бы извне, а не изнутри. И Ясперс в том числе про это писал и потом пересматривал еще. И мы прекрасно помним, что когда канцлер Вилли Брандт сделал свой знаменитый жест — встал на колени в Польше в 1970 году в память об убитых (мы понимаем: 25 лет прошло!) — в Германии много людей было возмущено: «Каким образом он как представитель нас может делать такой шаг? Мы это не поддерживаем, мы не виноваты». Вот я читала недавно об этом, и это поразительно. Потому что нам задним числом кажется, что все всё быстро поняли, всё денацифицировали, все покаялись и пошли дальше. Это, конечно, не так. Это сложнейший, болезненный процесс даже в такой стране, более-менее монолитной, гораздо меньшего размера, как Германия, — мощной, но просто территориально не сравнить с Российской Федерацией.
Я вижу это со всех точек зрения. Я не политолог, не историк, но просто закономерно, что эта империя должна распасться. Застанем мы это или нет? Я очень надеюсь, что я это застану, но вполне допускаю, что, может быть, и нет. Мне бы хотелось это увидеть. Мне бы хотелось увидеть распад империи и маленькие отдельные страны, каждая из которых будет работать со своим прошлым. Потому что это травматическое прошлое, это во многих поколениях травмы и насилие. Не проработанные коллективные травмы — они будут на каждой территории, на что ни раздели. Просто в таких объемах, на таких территориях, с таким анамнезом и с этим имперским апломбом это невозможно и технически, и исторически. Империи — это анахронизм.
Ксения Ларина: Но она распадется. Я тут с вами соглашусь, безусловно. Другого пути нет. Он, во всяком случае, не просматривается, потому что никто не сможет поделить на сектора и оккупировать, как Германию, эту огромную тушу, которая занимает… На карту мира посмотреть, какое место занимает эта страна. Но вот я думаю о том, что всё-таки, даже если это случится, она не перестанет быть источником опасности для всего мира. А может быть, даже еще и большей опасности, когда это всё распадется, потому что никто не знает, как это распадется. То что распадется — да. Но не превратится ли это в такую дымящуюся, страшную кучу гражданской войны, гражданских конфликтов и прочего, да еще и с оружием массового поражения?
Екатерина Марголис: Конечно, наличие ядерного оружия принципиально меняет всю ситуацию. Как ее принципиально изменил для Украины сам факт отказа от этого ядерного оружия — об этом бесконечно говорили и говорят.
Ну что ж, это не мы с вами решаем, превратится это в гражданскую войну или не превратится. Будет вечный такой нарратив, что «как бы не было хуже», «мы сейчас потерпим», «как бы не распалась», «не отпустим независимую Ичкерию в качестве отдельного государства» или еще что-то. Будем продолжать свои имперские, может быть, не агрессивные, а такие нарративы «старшего брата», что сейчас мы всех здесь под своим крылом будем мирно держать — и это гарантия мира во всём мире. Но мы все видим, что это никакая не гарантия, что это опасное не устраненное зло.
Что будет дальше, значит, то и будет дальше. Будет поражение. Какое оно будет, что за ним — нам это всё предстоит прожить, понять, что с этим делать. Это вне нашего контроля, поэтому это всё теоретически. Всё, этот процесс уже запущен, эта война уже идет, мы живем в это военное время. У нас нет какой-то другой эпохи или какой-то другой запасной жизни, чтобы прожить это как-то по-другому.
Ксения Ларина: Не могу вас не спросить как художника о так называемом художественном оформлении этой войны. Вот все появления этих букв: Z и V сначала, а сейчас уже одна Z осталась — как некий образ, который потихонечку превратился уже в свастику. Уже есть целая мифология вокруг этой буквы Z. Я прочитала у одного из поклонников этой войны, у одного артиста в его страстном монологе, что «за эту букву наши деды кровь проливали» — за священную букву Z. Как вам кажется (мой первый вопрос), это всё вообще случайно у них родилось, или это продуманная стратегия чья-то? То что касается именно художественного оформления.
И второй вопрос: почему это так легло? Что это за почва такая, которая с таким наслаждением проглатывает всю эту туфту? Начиная от пропаганды, от этих штампов, и заканчивая вот этими образами, этими Шаманами, вообще этой стилистикой абсолютного такого фашизма — настоящего, гитлеровского? Почему произошло такое вот слияние, такое объятие?
Екатерина Марголис: Эстетика и форма всегда идет вместе с содержанием, а содержание находит себе форму. Совершенно ничего удивительного, что фашистское содержание нашло себе совершенно фашистскую же форму с некоторыми элементами такого славянского, исконно-посконного, националистического, еще одной ногой и боком согнутого, с таким государственным православием.
Символика — от начертания шрифтов до каких-то художественных образов, до имиджа (как идет этот певец по Красной площади, неотличимый от фильма «Кабаре»), — всё это развивается эстетически по совершенно тем же канонам, тем же закономерностям (а они есть, закономерности) художественного оформления и художественной формы насилия и фашизма.
Вот мы видим: на наших глазах подтверждается то, что одно напрямую связано с другим. В эту форму наливается вот это содержание. Это содержание отливается вот в эту форму — все эти дешевые национализм, гордость, «мы поднялись с колен», «мы всех победим», «вокруг враги». Это же очень легко — почувствовать себя героями. Это не ежедневный труд. Это громкая, броская и очень дешевая наживка, которую легко заглотить и сразу почувствовать себя каким-то сверхчеловеком.
На этот простой комплекс униженного как раз той же самой властью, тем же самым режимом человека и ложится вся эта патетика, эстетика гордости, победы. Эта же власть унижает людей, эта же власть обворовывает людей, эта же власть ни в грош не ставит человеческую жизнь — и она же телевизором и всеми доступными каналами пропаганды, ничего не меняя по сути, внушает эту ложную гордость, агрессивную гордость и подтверждение агрессии.
И, конечно, еще такая очень важная часть менталитета, о которой невозможно не говорить, когда мы говорим о памяти, — это лагерный менталитет, тюремный менталитет. В общем, половина страны, значительная часть отсидела в ГУЛАГе, погибла в ГУЛАГе. Когда люди вышли, это тюремное сознание, эта тюремная мифология, этот тюремный язык, блатной язык, который был сейчас легитимизирован сверху наследниками НКВД-КГБ…
Много раз про это говорили… «Мочить в сортире» — это не только сигнал к агрессии, это еще и сигнал к допустимости определенного менталитета. Язык определяет сознание. Это то, что мы живем не по закону, а по законам зоны. Тоже, опять-таки, если говорить о себе… Мы так легко употребляем «место у параши», «разборки» — уйму терминов лагерного, блатного языка, который транслирует определенную картину мира. И вот это, мне кажется, совершенно недопустимо. Нужно за этим — лучше поздно, чем никогда, — начинать следить. Потому что через это в том числе (может быть, микроскопическими дозами) проникает агрессия, проникает беззаконие, произвол и много что проникает.
Вот Лотман — это я недавно слушала — говорил, что ему приходилось сталкиваться с представителями блатного мира, и это люди, которые всегда чувствуют себя жертвами. Они всегда защищаются. Если бы они первыми не напали, то на них бы напали. Они чувствуют угрозу и насмешку. Вот он рассказывал про очкариков во дворе: «Что же он очки-то нацепил? Это он нарочно, чтоб меня позлить». И как бы еще вот это инфантильное ощущение, что весь мир крутится вокруг тебя… По-моему, Мамардашвили говорил, что мир по отношению к нам не имеет никаких намерений, а ощущение, что всё в мире происходит для нас, чтобы нас позлить или еще что-то — это ощущение инфантила.
Ксения Ларина: Но инфантил плюс, действительно, такое имперство. Безусловно, оно и в этом проявляется, согласитесь?
Екатерина Марголис: Конечно, это тоже часть блатной идеологии. Это люди необразованные, это люди агрессивные, это люди, живущие по закону стаи. И вот во главе Российской Федерации стоит президент, который воплощает вот эту всю блатную сущность, лагерную сущность, уголовную сущность и уголовный менталитет подворотни.
Ксения Ларина: Тогда и про него спрошу тоже. Будем уже близиться к финалу, сейчас буду вас отпускать — начну вас отпускать из эфира. Всё-таки, как вы чувствуете, как вы для себя определяете: в чем секрет могущества этой абсолютно бездарной, неталантливой, блеклой фигуры? Если, опять же, прокрутить назад эту пленку, с чего всё началось, — это абсолютно человек без лица. В чём секрет его могущества?
Екатерина Марголис: Грустную вещь, наверное, скажу. Он олицетворяет, в нем находят подтверждение многие черты — это не какая-то оккупация извне… Это человек, который в худших проявлениях — падать вниз вообще легко, растлевать вообще легко — понимает какие-то глубинные, очень черные, очень низменные механизмы, которые существуют и существовали в менталитете.
Это пробуждение агрессии, имперства, пробуждение к жизни лагерных понятий, «жизнь по понятиям» — на всех уровнях. Мы же не говорим только про «глубинный народ», необразованный, бедный. Мы говорим в том числе про культурную публику, про интеллигенцию. Принятие жизни «по понятиям», а не по законам, какие-то особые условия, двойная мораль, двоемыслие с детства — это всё присуще, к сожалению, всем слоям населения.
Мы это помним и по нашему советскому детству, а дальше это продолжилось, но в другом виде. Поэтому, к сожалению, Путин — это совершенно не случайная фигура. И он очень хорошо понимает и чувствует (потому что это в нем есть), как эти низменные вещи можно хорошо срежиссировать и срезонировать, и что там есть чему резонировать. Это очень грустный, печальный, но очевидный уже вывод.
Ксения Ларина: Какие тексты и книги вы бы назвали в качестве возможных аналогий и опор, которые помогают, могут помочь нам понять, что происходит с нами и как из этого выходить?
Екатерина Марголис: Мне кажется, что вообще любые тексты, любые свидетельства Второй мировой. «История одного немца», которая сейчас издана, книги Ясперса… Ханна Арендт, Томас Манн — все очевидные имена. Конечно, они сейчас прочитываются совершенно по-другому. Любые свидетельства про войну — не важно: от Ремарка до Гроссмана, — мы читаем по-другому. Человек на войне, как он видит эту войну, мне кажется, это тоже очень важно. Важно не только осмысление, выводы, но важен сам процесс.
Не знаю, я Толстого здесь перечитывала, «Войну и мир», местами. Вот когда Петя Ростов погибает… И он угощает всех этими сладостями… У меня это как-то срифмовалось — слава богу, он жив и здоров, — сейчас мы собирали с моими украинскими подругами на ботинки сыну моей подруги, который воюет под Бахмутом. Он ровесник моей дочки. Вот мы собираем на амуницию, собираем на эти берцы, собираем на дроны, еще что-то. И я в эти ботинки насовала всяких желейных мишек, конфетки — он мальчик, он любит их. Потом он присылает это видео. Вот он идет в полной амуниции, держит эти желейки и говорит: «Мама, а теперь я буду стреляться мармеладками»… Это всё живая ткань, живые люди на этой войне. Мне кажется, что это самое главное. Даже не только глобальные выводы, а просто увидеть живого человека.
Ксения Ларина: Спасибо большое за такую замечательную коду нашего разговора. Катя Марголис наша сегодняшняя гостья. Спасибо тем, кто нас смотрел. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки — всё как обычно, всё традиционно. Я очень рада, что мы с Екатериной наконец встретились.
Екатерина Марголис: Я тоже, спасибо!
Ксения Ларина: Не буду скрывать своего уважения к Кате за то, что она говорит и пишет. Я не всегда согласна в каких-то оценках и в частностях, но общий порыв мне очень созвучен. Неслучайно у меня тоже есть белое пальто. Спасибо вам, Катя, и до встречи! Я думаю, что всё будет так, как мы чувствуем, понимаем и как мы хотим, как мы ждем. Спасибо вам!
Екатерина Марголис: Нужна скорейшая победа Украины.
Ксения Ларина: Это так.