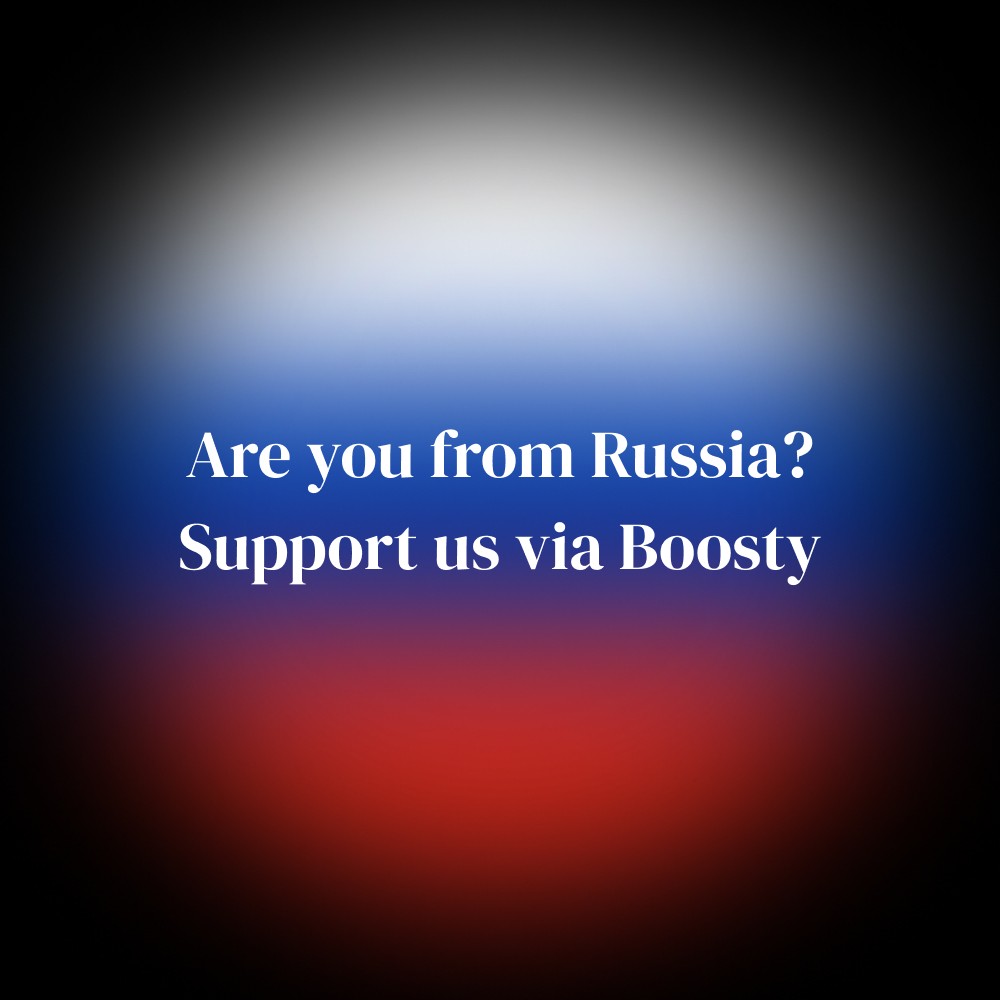Ksenia Larina: Good evening, dear friends, our dear viewers, dear subscribers! This is The Insider Live channel, my name is Ksenia Larina, and, as usual, every week we meet in our virtual studio with guests whose opinion we think is important, interesting and authoritative – we hope you do too. Today our guest is a man of his word in every sense. This is a philologist, linguist, philosopher, writer Mikhail Epshtein. Michael, hello, welcome!
Mikhail Epstein: Hello, Ksenia, hello!
Ksenia Larina: Just before the recording of our program began, Mikhail remembered that we had met 10 years ago at the Echo of Moscow studio – as we are now accustomed to saying, before the war. This was long before the war, even before the thought of war long. It was a completely different life. But I want to tell our viewers that there are unchanging things: Mikhail Epshtein, together with his colleagues, still determines the words of the year. How many years has this been going on?
Mikhail Epstein: 2016 – since 2007.
Ksenia Larina: Yes, we also often met on this occasion in our program “We Speak Russian” on “Echo of Moscow” and also summed up these results, called the words of the year. It is also surprising that I just found out before recording – that this year, too, the "word of the year – 2022" was determined. And of course, I'm assuming that the word is "war", right?
Mikhail Epstein: Yes, it was the word "war". And "military". We determined it in December 2022. And what will happen to 2023, I'm not sure for many reasons.
Ksenia Larina: A year of war has passed. And, apparently, the first book that tries to somehow comprehend what is happening, already this war, is your book, which is called "Russian Anti-World on the Edge of the Apocalypse." I was, of course, amazed at your courage. Correct me: this is probably the only such great work devoted to this event already?
Mikhail Epshtein: It came out in January, and I'm practically sure that at that time it really was the first book about the war – at least not a journalistic one, but a cultural, humanitarian, philosophical one. A lot of what's in this book, because things haven't really moved forward politically since then, so there's been a pause for a few months—so I think basically what's said in this book holds true. and about the current circumstances. It is called exactly “Russian anti-world. Politics on the verge of an apocalypse.
Ksenia Larina: Well, this is exactly how you define the very Russian world, meaningless and merciless, paraphrasing Pushkin, as an anti-world. Of course, to some extent, this continues our endless analogies with Orwell's novel, when the given is equated with its complete opposite: peace is war, freedom is slavery, and so on. My question is this. When did you, as a person of fine tuning, as they say, feel that the “Russian world” is exactly “anti”? This did not happen now, not in February 2022, but much earlier. When?
Mikhail Epstein: You know, the first sensation arose in 2008, in August, in connection with the Georgian events. I was at that time in Korea, in Seoul, at the World Congress of Philosophy. There were a lot of Russian philosophers there – the third largest delegation after, of course, the South Korean and American ones, about 170 people. And I was struck, first of all, by some kind of silence around the events that were unfolding.
And those were the events. Solzhenitsyn died, and it was as if an entire era had passed into the past. And literally 3 days after the death of Solzhenitsyn (I think on August 5), on August 8, this war began. And no one discussed anything. So I, in general, already by that time a foreigner with 20 years of experience, had to remember Solzhenitsyn at the table and somehow raise this topic.
And then for me it was absolutely certain that the war between Russia and Georgia is also a war against itself. That is, it is an inversion. As, in general, everything that happened afterwards, both in 2014 and in 2022. That is, for me, a symbolic act of this war was how Russian missiles bombed the department of Russian philology in Kyiv. That is, they bombed themselves, as it were, a part of Russia, which, in fact, represented this country in Ukraine. And so she ended it herself.
So, it began, in my opinion, in Georgia, because no one has canceled the gospel law: with what measure you measure, it will be measured to you. That is, when one country destroys the integrity of another country and claims its right to do so, this measure will be applied to itself.
Indeed, such conversations began then both in Tatarstan and Bashkortostan: why, in fact, Georgia can break up, South Ossetia and Abkhazia can separate from it, and why can't we separate from Russia? That is… There is a certain law of justice, roughly speaking, or retribution.
And then, when I returned to my room and, as usual, began to teach the next courses of the autumn semester at the end of August, and there, naturally, it was about Russia, Russian literature, and so on, I felt that the words "Russia" and "Russian" sound different than they sounded so far, in 2008. Until then, the word "Russia" sounded not only impeccable, but it sounded like a sign of a disease overcome – the disease of totalitarianism, communism, which the country itself found the strength to overcome, defeat its historical past with all the minuses, retreats, and so on. And suddenly a new overtone of this word appeared. It began to sound so that one did not want to pronounce it or had to pronounce it with some reservation, with some shame.
And, of course, this feeling that Russia's reputation, even in purely vocal terms, is already tarnished, covered with some kind of sound scab – it remained and intensified. Especially in 2014, and, of course, after February 24, 2022. So for me, the very split of Russia, its fall, we will speak pompously – in fact, it seems to me that this is so – the fall into the abyss of non-existence began precisely then.
Ksenia Larina: Today, many people call this war a “war of civilizations”. Strictly speaking, this is how Russian propaganda defines this war, this is how this war and the whole world are defined – the war of civilizations: the past with the future, evil with light, darkness with light, and so on and so forth. Only the Russian side, Russia and all the mouthpieces of this war, as they say, mirror the real thing, which seems real to us, people of good will. But only in their mouths do they somehow shift this onto themselves, accusing of fascism those who, in fact, are the victims of today's fascism, accusing of expansion, split and annexation of those whom, in fact, they themselves have annexed and against whom war. Well, and so on and so forth.
My question. Do you think this is a conscious strategy on the part of Russia — “playing the victim”, as they say, this is a well-known case — or did it happen by chance: suddenly they realized that it was playing, it was working for the audience?
Mikhail Epstein: You know, it seems to me that this is such a mockery. Chekist nonsense. That is, they are mocking. Here they attacked Ukraine at exactly 4 o'clock, as Germany attacked Russia. Although it must be said, Germany nevertheless declared war on the Soviet Union an hour before the attack and even wrote a huge petition explaining the reasons for this attack.
And everything that happened next, it seems to me, with the very choice of words … "Denazification of Ukraine" – why on earth Nazism suddenly started up in Ukraine, and why it turned out to be directed not against those countries and social systems against which Nazism is always directed, – against liberal countries of the West? Why is it suddenly directed against a single country, Russia, which suddenly turns out to be the beacon of freedom and liberalism in general? It's all so upside down. I say that we have entered the world of inversions, that is, such political and ideological reversals.
Of course, I think if we follow the speech of the main person, Vladimir Putin, then we will find this KGB bullshit quite clearly. It's not a lie, it's bullshit. Because when a person lies and tries to pass it off as the truth, he deviates from the truth, I don't know, by 90 degrees. But here it is just the opposite. When he says that Russia is fighting the colonialism of the West, referring there to the 19th century, when it is absolutely clear that this is a colonial war of Russia itself for the return of its former colony of Ukraine; when he says that the West does not grant peoples the right to self-determination, that the West is fighting against all human rights and freedoms, then we see absolutely clear signs of this mockery. It is clear to every thinking person that the situation is exactly the opposite. And this is a sign of mockery.
And we are constantly confronted with such phenomena, right up to the recent episode when helicopters and planes were shot down over the Bryansk region. It is becoming more and more obvious that it was the Russian air defense that shot down their own planes. That is, this is a hit on our own, "to bomb Voronezh." And this is the irony of the devil. You see, if, again, we treat everything that happens as a kind of mystery, the devil, of course, sneers, firstly, at those with whom he is at war, and then sneers at those who are an obedient instrument in his hands, then is above its executors, above its servants. All this irony is remarkably traced by Dostoevsky in the chapter “Damn. Ivan Fedorovich's Nightmare from The Brothers Karamazov. So yes, this is such a KGB bullshit.
Ksenia Larina: Tell me, please, about the collapsed country, I mean Russia… We have different images, different metaphors. I like the broken elevator the most: no matter how much you press the buttons, everything is already predetermined anyway. How do you think, to what extent did the people who started all this realize that it would be exactly like that, that there was no chance? What to survive – I mean even, maybe not physically, but in the mental sense – will not work.
Mikhail Epstein: This is a complex and interesting question. They probably didn't realize it at first. They conspired with the devil, but did not understand that the devil loves to play pranks on his servants and performers. That is, a three-day war, a victorious march up to Lvov, and so on, but when it became clear that this was not working, it seems to me, again, without looking into the skull, but having lived 40 years in Russia and understanding a little the psychology of this place, of this society, I think that they somehow reconfigured in an apocalyptic way – that if we are destined to die, then with music. So to speak, we will die and the whole world, we will drag the planet with us.
You know, in Kafka's diaries there is such a small passage: "A Cossack, when he dances, dances to such an extent that he digs his own grave with his feet." Such Dionysian mirth, you know, the deathly mirth that digs a grave under the feet of the dancer himself. This is very clearly seen in the speeches of this Okhlobystin and other of these walkers, who call on the flame to flare up brighter.
Ksenia Larina: Dmitry Medvedev is also different.
Mikhail Epstein: Dmitry Medvedev, of course. He finally told the full truth, for which we should be grateful to him. Everyone has been judging for how many years, 10 years, where is she, the real bond of Russia – the people, or, perhaps, even serfdom, or Orthodoxy, autocracy, nationality. And he said bluntly: "Nuclear weapons are the backbone of Russia." This is an apocalyptic statement. That is, what holds Russia is the will to die, that is, the will to destroy everything, including itself.
And I do not rule out that this is not a rationalization of the original plans that failed, but their irrationalization: “Oh, so? So let's go to the end of this." Or, as it is sung in the song of this Shaman, our such fascist sweet singer: "I am Russian, I go to the end." But the end is, in general, the end of everything, including the end of both Russia itself and humanity.
And I discovered this when I followed (of course, from a distance) the reaction of the Russian community to the withdrawal of Russian troops from Kherson. It would seem that this is such a terrible event, but somehow everyone basically rejoiced. You see, the psyche has reached such an ambivalent state when pluses and minuses are destroyed in the explosion itself – an explosion of joy or a nuclear explosion. But this state of readiness for an explosion, for the destruction of everything, including oneself, is, of course, the most to be feared. And such ambivalence, or something, that is, ambiguity, reversibility – it, unfortunately, is very characteristic of the state of the people among whom we grew up.
Ksenia Larina: As for another phenomenon, which you also probably noticed, you could not help but notice. This is such a cult of death. That is, the main meaning of life is death. It all started, I remember, with a quote from Vysotsky's song: "It's better than vodka and colds." And then all this began to rise rapidly already in some heights. Today, every most miserable propagandist will surely say that we must all die. And let's remember: even earlier in one of the speeches, he said, remember, Putin, that "they will all die, and we will go to heaven." How do you explain this? And immediately the second question: did the authors of this message, this metaphor, guess that this would be accepted by the people, that they would understand it?
Mikhail Epstein: Maybe they guessed right. I think that Putin vibrates well in unison with some of the most underground, subconscious nervous states of his people and amplifies these states. It's like Thomas Mann in Mario and the Wizard, his story. There, this completely demonic magician enters a state of such ecstasy when he merges with the audience. And Thomas Mann writes that it was impossible to tell who was leading whom – the audience was leading this magician, or he was leading the public. That is, the state, as it were, of the merging of the leader and the masses.
And that regime of necrocracy, as I once described it, that is, the power of death, began to be clearly established in Russia after 2014. For me, such a significant milestone was the speech of Alexander Ageev – he is the director of the Institute of Political Strategies and various academic institutions in Russia, a very important person – when he proposed that the dead take part in the voting, in the presidential elections, in the Duma elections: “Our grandfathers and great-grandfathers died in the Great Patriotic War. Don't they have the right to vote? Let them vote." And then the people added to this – so to speak, critics, commentators: “Why? And those who died in the Civil War? What about others?
This is necrocracy in its kind of legal expression. And it was difficult to say how they really represent it. Well, here are families, for example. A family, if there are dead in it, let them have not 3 votes, but 5 votes, let them be for their dead …
Ksenia Larina: Wait a second, it's just very interesting: isn't the Immortal Regiment a manifestation of that same necocracy? Remember, it started as an absolutely human story once, but in the end, how did it end? They began to measure by the thousands how many of us left, and began to give orders how many people should go out with their dead in each city. And the governors competed with each other who would give the most dead. There is also some element of cultivating this death in this, yes, tell me?
Mikhail Epshtein: When babies are dressed in khaki diapers, when children of 2-3 years old are put in wheelchairs in the form of tanks, when mothers dress up in military uniforms, when these parades are held in nurseries or in kindergartens – again, military uniforms. They are prepared for death literally from birth.
Here, of course, one recalls the deepest archetype of Russian culture, expressed in Gogol's "Dead Souls", by Chaadaev, who signed "Necropolis" his philosophical letters written by him in Moscow. That is, the feeling of a dead country, a dead city, the voice of the dead – where does it all come from? This requires some additional research, but, of course, there are deep historical and mythological roots that predetermine the strongest message of thanatophilia, that is, love of death, or necrophilia, love of death, in Russian culture. She, in general, is all about this, she is all about the dead souls that settled on this plain.
It must be said that those who are usually understood as "dead souls", all these landowners, are in fact not yet the most dead thing that Gogol has. The most terrible thing about him (I wrote about this, but in this context, it’s probably worth repeating), the most terrible image of Dead Souls is, of course, Russia from lyrical digressions, in the description of which Gogol used all the motives of his magical, witchy early compositions: “Why did you fix your eyes on me so motionless? Everything in me is numb, and some kind of menacing cloud floats on me. And now I'm standing motionless. What a terrible, sparkling beauty – Rus'! This is an appeal to the lady from "Viya". And so on. That is, all intonations. Gogol did not find other, more solemn intonations when he addresses his homeland in lyrical digressions than those that are turned in "Terrible Revenge", in "Viy" and in other such demonic things to evil spirits: it immobilizes, it looks at you in emphasis, she deprives you of your voice, you are dumb.
And, in fact, Gogol was already speechless when he began working on the second volume of Dead Souls. Thus ended the first volume: “Why am I standing dumb before you?” Well, I'm misrepresenting specific words there. «Мысль моя онемела». И вот она онемела, и всё последующее оказалось уже достойным сжигания, то есть опять-таки самоумерщвления писателя, самоумерщвления дара.
Сейчас вот я посмотрел какие-то фотоотчеты о праздновании Дня Победы. Там сотни и сотни фотографий того, что происходит на улицах городов и сел. И страшно просто, понимаете? На почве смерти люди просто сходят с ума. Смерть там в таких обличьях! Это и какие-то голые женщины, которые танцуют в обнимку со смертью… То есть соединение Эроса и Танатоса такое происходит наглядное.
Ксения Ларина: Но подождите, тогда объясните мне такой странный феномен. При всём при этом смерти этой войны люди предпочитают не замечать, не верить в них. Ведь тогда, наверное, это тоже как-то связано с тем, что вы говорите. «Ирпень, Буча — постановка. Это всё куклы, это всё специально привезенные туда какие-то имитации мертвых людей. Всё вранье, никто их не убивает». А почему здесь идет такой отказ от реальности, от реальной смерти?
Михаил Эпштейн: Знаете, так было вначале. Вначале люди отказывались верить в то, что российская армия может так зверствовать. А потом — я читал об этом журналистское расследование — они стали это не только принимать, но и как бы одобрять: «А так и нужно. Нужно еще жестче! Нужно их уничтожать, нужно на них бросить ядерную бомбу». То есть где-то после первых месяцев, когда народ еще сохранял некое чувство такого достоинства и христианского благочестия, потом всё это перешло ведь в прямую противоположность: «Так им и надо. Да, это мы сделали. И мы еще были слишком гуманны с ними. Нужно просто детей…» Кто это сказал, Красовский — что детей нужно сжигать и тому подобное?
Ксения Ларина: Да.
Михаил Эпштейн: И, кстати, когда я в ответе на предыдущий вопрос литературную траекторию обозначил, конечно, — а Платонов что со своим «Котлованом»? Когда строится котлован под здание будущего социализма, и оказывается, что только котлован, собственно, и построен, и в него приходят люди со своими гробами, чтобы в нем умирать… «Чевенгур»… Это же всё символы смерти и самоистребления.
Собственно, так произошло и с проектом Дворца Советов, который был задуман как самое высокое здание во всём мире — выше, чем Empire State Building, — в 1930-е годы. Они котлован успели выкопать, потом началась война, и в результате они заполнили этот котлован водой — и это стал бассейн «Москва», в котором я сам тоже плавал. То есть всё по Платонову: строительство останавливается на стадии котлована.
И вот эта традиция «смертобожия», как это называл в начале XX века Сологуб — какие-то такие декадентские мотивы поклонения смерти, почитания смерти, — это на самом деле не такое декадентство верхов, оторвавшихся от своих низов. Это идущая снизу очень глубокая интуиция смерти и смертолюбия.
Ксения Ларина: Давайте вернемся всё-таки в сегодняшнее время в буквальном смысле. Всё, что вы говорите, — это было, говорю я, как школьница на уроке, очень давно. И Гоголь давно, да и Платонов давно. Я уж не говорю про всех остальных, про русские народные сказки…
Михаил Эпштейн: Особенность России в том, что она существует очень долго и возвращается всё время в одно и то же. Как бы такой временной континуум. Как будто это время не линейное, не текучее, а оно постоянно прокручивается. Поступательно-вращательное такое происходит движение.
Ксения Ларина: Но всё, о чем мы с вами говорим сегодня, пытаясь объяснить, что происходит, как это всё произошло, — это всё, по моему разумению, никак не вписывается в XXI век. Ведь казалось бы, что мы уже всё это прошли, уже позади столько крови, смерти и беспамятства в том числе, которое тоже является частью нашей памяти. Это беспамятство, которое мы всё время ощущаем, правда же? Почему ничто не спасло от сегодняшней катастрофы?
Михаил Эпштейн: Вопрос, наступил ли XXI век в России. Понимаете, каждая страна — это хронотоп, то есть определенное соединение места и времени. В этом смысле в каждом месте — не только физическом, но и историческом, социальном, — время течет особенно. Вот в России такой ход времени. Понимаете, он такой как бы циклический. Вот как зима, весна, лето и осень из года в год сменяют друг друга, и никакого другого цикла не происходит.
Почему это так происходит — это отдельный вопрос. Тут можно обратиться к истории — к Московской Руси, к татаро-монгольскому периоду и так далее. Не хочется так далеко заходить, но реальность такова, что в XXI век Россия вошла глубоко травмированной страной. Травмированной своим прошлым. Это прошлое оказалось таким болезненным.
Как, знаете, в теории травмы — это очень популярный раздел современной гуманистики: травмированный человек всё время пытается возродить события, которые причинили ему травму. Собственно, это основа инстинкта смерти, как ее описал Фрейд по опыту Первой мировой войны в «По ту сторону принципа наслаждения». Раньше, до того Фрейд думал, что главное — это секс, либидо и вот это поступательное эротическое движение человека к такому сладостному, наслажденческому освоению мира. А оказалось, что у человека еще есть влечение к смерти. Он это обнаружил по результатам Первой мировой войны и в 1919 году, кажется, опубликовал «По ту сторону принципа наслаждения», где выяснил, что человек любит воспроизводить то, что причиняло ему боль, то, что его уничтожало. И в этом выражается другой инстинкт, который он назвал танатосом, то есть инстинктом смерти, инстинктом стремления к небытию.
Вот так получилось, что в России на протяжении, по крайней мере, всего XX века преобладала эта боль, это страдание, это самоуничтожение народа. И он отыгрывает этот свой травматический опыт в XXI веке.
Ксения Ларина: Как вам кажется, был ли вообще шанс у России, на ваш взгляд, всё-таки войти в этот XXI век? Не только в календарном смысле, но и понятно в каком. И если да, то когда? И если был, и когда, вы скажете, то почему он был упущен? Кто на этой развилке повел страну по другой тропинке, по другой дороге? Я имею в виду даже не… Простите, я уже начала отвечать сама. Мне кажется, что не конкретный человек в этом виноват. Если говорить про Путина того же, есть некий такой «путин» с маленькой буквы, как такой… Не знаю, как назвать. Целая система философская или целая национальная скрепа, менталитет. Не знаю, в общем. Вы мне помогите, чтобы я не путалась. Но вопрос вы понимаете, да?
Михаил Эпштейн: Я понимаю вопрос. Понимаете, Ксения, я думаю, что такая развилка была, такой шанс был. И поскольку я жил в России в конце 1980-х годов, я чувствовал этот исторический подъем, я чувствовал эту радость освобождения.
Ксения Ларина: Перестройка, да?
Михаил Эпштейн: Да, перестройка. Каждый день мы просыпались в другой стране, открывались новые горизонты — книжные, интеллектуальные, политические. И я думаю, что если бы нашелся такой лидер, который вошел в такой психологический контакт с этой созидательной энергией, которая еще осталась в народе… Ну вот лидер типа Немцова, например. Если бы Немцов, допустим, оказался преемником Ельцина, если бы Ельцин не совершил вот этой роковой ошибки, назначив выходца из ЧК своим преемником, всё могло бы сложиться иначе. Я думаю, что можно было бы иначе перенаправить народ, найти средства энергизации конструктивных состояний, всё еще существовавших к концу XX века в России, энергийных и конструктивных состояний народа. Особенно, конечно, в сотрудничестве с Западом, с миром деятельных, созидающих, имеющих колоссальный исторический опыт социального, технического и научного прогресса… Если бы Россия до конца открылась миру.
Но всё произошло ровным счетом наоборот. И вот такой социально-политический субстрат смерти – это и есть ЧК. ЧК, КГБ, ФСБ — как бы это ни называлось, когда мы говорим об инстинкте смерти, то прежде всего он выражен в этой прослойке общества. Вот оно овладело страной. И тот маленький «путин», о котором вы говорите, который жил в душе каждого россиянина так или иначе с опытом XX века — вот он воспрял под действием такого персонифицированного Путина с большой буквы. Вот так оно всё и произошло. То есть волшебник и цирк слились в экстазе. Был бы другой волшебник – был бы, может быть, другой цирк.
Ксения Ларина: Возвращаясь к вашей книге. Вопрос, который я вам задала, я задаю многим собеседникам: что для вас эта война открыла? В России, в Украине, вообще в своем понимании мироустройства. И в этой вашей книге наверняка об этом тоже идет речь.
Михаил Эпштейн: Да, очень многое, конечно, открыла. Я никогда не думал, что в России так много того, что эта война открыла, то есть так много архаики, смертолюбия, некрофилии, какой-то нечеловеческой жестокости.
Хотя об этом предупреждали писатели, хорошо знающие народ. Об этом Горький писал в своей книге «О русском крестьянстве». Об этом Бунин писал еще в своих дореволюцинных… Он писал об этом, конечно, в «Окаянных днях» — уже написаны по материалам революционных дней «Окаянные дни», но и до того — в «Деревне» и в других своих дореволюционных произведениях. То есть предупреждения были, но никогда не думалось, что это откроется с такой силой.
С другой стороны, конечно, подвиг Украины. Вот, казалось бы, такие близкие два образования — Украина и Россия. Настолько смешанные — столько полуукраинцев, полурусских. Но есть и еще одно. Поскольку я всё-таки филолог, есть интересное указание на разницу этих двух народов. Причем, я бы сказал, пророчество. Это «Человек в футляре». Поскольку это все читали, все знают. Вот там Беликов как олицетворение «как бы чего не вышло». Вот это гробовое. Это тоже носитель смерти — человек в футляре. Тот футляр, в который он себя облекает: очки, галоши, воротник и прочее-прочее — это всё метафоры смерти, конечно. И поэтому когда он в конце ложится в гроб, этот человек принял свое окончательное обличье — это носитель смерти.
И вот появляется семья Коваленко: Михаил Коваленко, преподаватель истории и географии в этой школе, Варенька. Это совершенно другой мир врывается, совершенно другой мир. Она начинает петь, дуют ветры. Эта стихия ветровая, солнечная как бы врывается в этот затхлый быт. И Беликов влюбляется в эту Вареньку, влюбляется.
Я думаю, что отношение России к Украине — это отношение любви и ненависти. И недаром, я помню, когда начались эти события 2014 года, кажется, это был Кургинян, он кричал, обращаясь к украинцам, уже тогда, когда их уничтожали, когда их убивали на Донбассе: «Мы вас любим, мы вас любим!» Понимаете, у каннибалов тоже ведь есть своя любовь. Они любят то, что они употребляют в пищу. Каннибал — это страшное соседство любви и смерти. Это очень инфантильный комплекс: ребенок тянет в рот и хочет съесть то, что ему нравится, то, что блестит.
Таким образом, Беликов, влюбляясь в Вареньку, вдруг раскрывает желание смерти — то есть себя как смерти — слиться с чем-то живым, воскреснуть, ожить. А не получается, потому что он приходит к Коваленко с угрозой подать на него жалобу, поскольку они ездят на велосипеде, поскольку они читают какие-то недозволенные книги, ведут себя вольно… И тот спускает его с лестницы…
Вот, мне кажется, это такая провидческая метафора того, что сейчас происходит: Коваленко спускает Беликова с лестницы. Тот прогрохотал по ней, Варенька в это время входила, она захохотала своим таким южным раскатистым смехом. «И на этом, — пишет Чехов, — закончилось всё: и земное существование Беликова, и его надежда на счастливый брак». Вот это происходит сейчас в истории. Кстати, как я упомянул, Коваленко — это учитель истории и географии. Вот это история и география нашего времени: когда один учитель спускает другого по лестнице истории.
И Чехов, кстати, считал себя малороссом, как ни странно. И в Таганроге, где он провел… Кстати, удивительное подобие судеб Чехова и Гоголя — двух самых смеющихся писателей в русской литературе — они до 19 лет жили в Украине, потом переехали в Россию. И, в общем, всю последующую жизнь они как бы оплакивали свое пребывание в этой страшной, мертвой стране, вспоминая то живое, с чем они выросли. Вот это странное соединение смеха и слез, слез и смеха — оно объединяет Чехова и Гоголя. Оба в 19 лет переехали в Россию…
Таким образом, мы видим: казалось бы, действительно народы-братья, так слившиеся и переплетенные во множестве человеческих судеб — и вдруг оказывается, что это совершенно разные сущности. И тем страшнее то, что происходит. Потому что ведь первое убийство в истории, в библейской истории — это братоубийство, это Каин убивает Авеля. То есть здесь воскресают такие мифы, такие глубочайшие архетипы в происходящем. И собственно, вот эта книга «Русский антимир» — она об этих архетипах, архетипах библейских, русских литературных, обо всём том, что всплывает сейчас. То есть нам кажется, что это мы делаем, а это делается нами. Понимаете, какие-то мифологические, архетипические схемы здесь проявляются во всём своем блеске.
Ксения Ларина: А не снимает ли это той самой коллективной вины и коллективной ответственности, о которой мы весь этот год спорим и говорим в русском сообществе в сети и на всяких дискуссионных площадках? Наверняка вы тоже участвовали в такого рода дискуссиях.
Михаил Эпштейн: Вы знаете, нет, не снимает. И здесь я вспомню опять евангельское: «Должен прийти в мир соблазн, но горе тому, через кого он приходит». Понимаете, должен прийти, но если через тебя он приходит, то ты осужден. Здесь еще не так давно в связи с покушением на Прилепина и вообще возник такой вопрос: а хорошо ли это — радоваться гибели таких людей? Это, в общем-то, тот же вопрос: а хорошо ли радоваться смерти Сталина или смерти Гитлера?
Ксения Ларина: Или смерти Путина, например.
Михаил Эпштейн: Да, смерти Путина. Вы знаете, я думаю, что да. И в этом есть своя правда.
Ксения Ларина: То есть не надо пугаться этого чувства в себе?
Михаил Эпштейн: Нет, понимаете, в Евангелии сказано: «Благословляйте ненавидящих вас, благословляйте врагов ваших». Но это речь идет о личном. Тех, которые лично меня ненавидят, — вот им нужно прощать. Но когда мы видим тирана, убивающего людей, или солдата-тирана, который хвалится тем, что он истребил больше людей, чем кто бы то ни было — как было в случае с Прилепиным, когда он хвалился, что его батальон убил больше украинцев, чем какой-либо другой батальон, сражающийся в Донецке, — тогда возникают вопросы.
Вот в «Книге притчей Соломоновых» сказано, что когда праведник блаженствует, то весь город радуется, а когда нечестивый погибает, город ликует, то есть еще больше радуется. Why? Это не личная радость, а это зрелище торжества справедливости. Тот, кто причинял гибель, сам оказывается подвержен этому же гибельному концу, и тем самым его смерть спасает жизни многих и многих людей.
Поэтому я бы сказал, что это не столько радость страданию или гибели данного человека, сколько восприятие некоей справедливости, некоторого возмездия и, конечно, радость за тех людей, которые останутся жить благодаря смерти преступника, благодаря смерти убийцы, тирана, преступника против всего человечества, террориста и так далее. Поэтому это радость, сопряженная со скорбью. И об этом тоже нужно помнить.
Почему Господь не радуется смерти грешника? Об этом тоже говорится: потому что он знает, что грешник будет удостоен таких страданий адских, по сравнению с которыми смерть — это ничто. Поэтому это радость, сопряженная со скорбью. Потому что мы знаем, что его земная кончина лишь пролог, преддверие таких страданий, которые даже врагу мы не можем пожелать. Но то, что на этой земле его больше нет, должно, мне кажется, вызывать в людях чувство удовлетворения при зрелище того, как справедливость совершается над теми, кто пытается ее преступить.
Ксения Ларина: У меня еще один вопрос к вам, Михаил, по поводу тех людей, которые находятся внутри России и которые испытывают те же самые чувства стыда, ужаса, бессилия, боли из-за того, что происходит, но ничего не могут сделать. И даже сказать-то об этом не могут — только самому близкому человеку на кухне. Скоро уже, я чувствую, начнут воду включать, как в советских фильмах, помните, про сталинские времена, чтобы не слышно было. Как вам кажется, что может стать опорой для человека, который переживает ад этой войны, этот апокалипсис, не понимая, не зная и не имея никакой возможности повлиять на ход событий?
Михаил Эпштейн: Это очень тяжелая ситуация, достойная уважения, сострадания к тем людям, которые, как в советские годы… Даже хуже, чем в советские годы, потому что те советские годы, которые мы помним, — это был уже такой старческий, равнодушный, во многом беззубый коммунизм. А это такой новый, нарождающийся фашизм, такой еще — с иголочки. И мы еще не знаем, что он готовит своим подданным, какие испытания.
Поэтому я бы сказал, что если есть какая-то возможность — семейная, профессиональная — уехать из этой страны, наверное, это был бы тот выбор, который нужно рассмотреть со всей возможной тщательностью. Если такой возможности нет, если семейный долг или профессиональный долг — не знаю, долг учителя или долг врача — приковывает вас к этому месту, то нужно со всей возможностью и самоотдачей его исполнять. И, конечно, беречь себя, беречь своих близких, утешаясь тем, что посылаются такие испытания. И жить не по лжи. Или, я бы даже сказал, жить по любви, то есть по любви к тем, ради которых ты остаешься. Понимать, что это дело любви, которая держит тебя в этой стране. Любви к тем, кого ты учишь, кого ты лечишь, кому ты помогаешь. Это весьма достойное призвание.
И вместе с тем помнить, конечно, что если есть в тебе какой-то… Я вот недавно в своем блоге на Facebook напомнил эту притчу о талантах — о том, что когда Господь или господин дает своим слугам какой-то талант, он требует от них, чтобы они вернули его приумноженным. А тот, кто зарыл свой талант в землю, тот идет в ад, во тьму, конечно. Так вот, не зарывать свой талант в землю. Эта притча сейчас приобретает еще дополнительный оттенок, поскольку он зарывает свой талант в землю и поэтому не приумножает его — если ты остаешься, так сказать, ради земли и зарываешь свой талант в эту землю, руководствуясь таким ложным патриотизмом и так далее, то это как раз то, о чем эта притча. Не зарывай свой талант в землю. Если у тебя есть какое-то призвание по отношению к близким, ученикам, больным и так далее, то исполняй его, если в этом твой талант — талант врача, талант педагога, талант сына, отца, брата и тому подобное. Это тоже таланты. Но если ты просто боишься покинуть эту страну только в силу страха, то вот тебе эта притча, руководство: не зарывай свой талант в эту землю, беги. Беги туда, где ты можешь этот талант приумножить. Вот, если это может как-то способствовать, то надо вспоминать эту притчу.
Ксения Ларина: Давайте в конце нашего разговора назовем книжку еще раз, как она называется. Потому что, мне кажется, она многим будет важна, для многих людей.
Михаил Эпштейн: Показать ее?
Ксения Ларина: Да, давайте.
Михаил Эпштейн: Здесь очень выразительная обложка. Это картина Климта 1916 года, тоже навеянная Первой мировой войной. Называется «Смерть и жизнь». Вот с одной стороны — смерть, а с другой стороны — жизнь. Очень всё наглядно и очень напоминает происходящее ныне. Прямо, не знаю, как в басне какой-то, обнажилось вот это противостояние жизни и смерти. С наглядностью аллегории, просто вот для первого класса!
Ксения Ларина: Спасибо вам большое! Это Михаил Эпштейн, наш сегодняшний гость. Спасибо всем, кто с нами сейчас и кто будет нас смотреть потом. Дорогие друзья, не забывайте ставить нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Я благодарю нашего гостя и надеюсь, что жизнь победит смерть. Просто по-другому и быть не может. Спасибо вам большое!
Михаил Эпштейн: Спасибо, Ксения! Спасибо всем слушавшим!